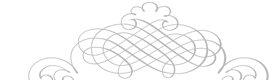Московский Богоявленский кафедральный собор
В.А. Любартович, Е.М. Юхименко
Собор Богоявления в Елохове: история храма и прихода (Отрывки из книги)
Перед самым началом Великой Отечественной войны кафедральный собор Москвы <...> оказался перед угрозой закрытия. Об этом вспоминала его прихожанка Зоя Вениаминовна Пестова, жена профессора Н. Е. Пестова <...>: «Начало войны застало нас в Москве. Накануне, в субботу 21 июня я была у всенощной в Елоховском соборе. Служил отец Николай Колчицкий. Служил и плакал, а после окончания богослужения сказал, обратившись к народу, что завтра утром будет отслужена последняя Литургия, после чего храм закрывается и ключи сдаются в исполком. <...> На другой день рано утром я уже была в храме. Народу было немного. Все стояли грустные и печальные. После окончания Литургии все ждали, что вот сейчас придут представители власти и собор будет закрыт. Но никто не приходил. Постепенно все стали расходиться. Ушла и я домой» *1 .
Фашистская Германия напала на Советский Союз 22 июня 1941 г., в день Всех святых, в земле Российской просиявших. В тот день в Богоявленском соборе служил литургию митрополит Сергий. Вернувшись после окончания службы к себе, в митрополичий дом в Бауманском пер., владыка узнал о начале войны. Сразу же уединившись в своем кабинете, он написал и собственноручно отпечатал на пишущей машинке «Послание пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви». Это послание вскоре было размножено и разослано по всем уголкам страны *2 .
«Но не в первый раз приходится русскому народу выдерживать такие испытания,— писал Патриарший Местоблюститель митрополит Сергий.— С Божией помощью и на сей раз он развеет в прах фашистскую вражескую силу. <...> Церковь Христова благословляет всех православных на защиту священных границ нашей родины. Господь дарует нам победу» *3 .
Вечером 26 июня на молебне о победе русского воинства в Богоявленском соборе митрополит Московский и Коломенский Сергий призвал соотечественников на подвиг защиты родной земли, ее исторических святынь, ее независимости от иностранного порабощения. Он произнес тогда знаменательные слова: «Да послужит и наступившая военная гроза к оздоровлению нашей атмосферы духовной, да унесет она с собой всякие тлетворные миазмы: равнодушие ко благу Отечества, двурушничество, служение личной наживе и пр. У нас уже имеются некоторые признаки такого оздоровления. Разве не радостно, например, видеть, что с первыми ударами грозы мы вот в таком множестве собирались в наш храм и начало нашего всенародного подвига в защиту родной земли освящаем церковным богослужением?» *4
С того дня в соборе начался сбор пожертвований на нужды обороны страны. К свечному ящику подходили прихожане и вносили свою лепту на дело скорейшей победы над врагом. Примером им послужил сам митрополит Сергий, который, призвав верующих к патриотической жертве, снял бриллиантовый крест с клобука и наперсный крест с груди своей, положив основание к сбору средств на дело скорейшей победы *5 .
Особую известность получила среди верующего народа проповедь, произнесенная в Елоховском соборе 10 августа 1941 г. главой Ленинградской епархии митрополитом Алексием (Симанским), его слова о патриотизме и религиозности русского народа: «Как во времена Димитрия Донского и св. Александра Невского, как в эпоху борьбы с Наполеоном, не только патриотизму русских людей обязана была победа Русского народа, но и его глубокой вере в помощь Божию правому делу. <...> Мы будем непоколебимы в нашей вере в конечную победу над ложью и злом, в окончательную победу над врагом» *6 .
С началом налетов на Москву вражеской авиации на колокольне собора был оборудован пост противовоздушной обороны с размещенными на нем боевыми расчетами зенитчиков, защищавших небо столицы и район Елохова от бомбежек *7 . В самом храме были приняты меры к затемнению помещения, а колокольный звон был перенесен в один из алтарей.
В условиях критического положения под Москвой в октябре 1941 г. и на случай захвата столицы гитлеровскими войсками по распоряжению Государственного комитета обороны были заминированы и подготовлены к уничтожению здания органов государственной власти, оборонные предприятия, объекты жизнеобеспечения города. Предполагалось, что в случае захвата Москвы немецкое военное командование и гражданская администрация проведут торжественные богослужения в лучших храмовых зданиях. Поэтому тщательно замаскированному минированию были, в частности, подвергнуты некоторые помещения Богоявленского Елоховского собора и здание бывшей лютеранской кирхи святых Петра и Павла в Старосадском пер. Специально подобранные группы нелегалов-боевиков должны были осуществить подрыв храмовых зданий в случае проведения в них подобных богослужений. Но уже в январе 1942 г. эти здания разминировали, изъяв взрывчатые вещества и запалы *8 .
7 октября 1941 г. Моссовет предложил Патриаршему Местоблюстителю выехать из Москвы в эвакуацию вместе со своими сотрудниками. Внезапно заболевший владыка Сергий 12 октября составил и подписал завещание, а 14 октября, несмотря на плохое самочувствие, был вывезен в Ульяновск, куда прибыл 19 октября. Его сопровождали: митрополит Киевский и Галицкий Николай (Ярушевич), протоиерей Николай Колчицкий, протодиакон Георгий Антоненко, иеродиакон Иоанн (Разумов) и другие приглашенные им частные лица. К управлению церковными делами по Москве Блаженнейшим митрополитом Сергием был призван находившийся в должности настоятеля храма Сошествия Святого Духа на Даниловском кладбище архиепископ Волоколамский Алексий (Палицын), в помощь которому был оставлен в Москве епархиальный секретарь о. Сергий Даев (с 14 мая 1944 г. епископ Можайский Макарий) *9.
22 февраля 1942 г. в Москве был 20-градусный мороз, но тысячи москвичей собрались в неотапливаемом Елоховском соборе на торжественное богослужение с молебном о даровании победы русскому воинству. После литургии, которую совершал митрополит Киевский и Галицкий Николай в сослужении архиепископов: Куйбышевского Алексия (Палицына), Горьковского Сергия (Гришина), Уфимского Алексия (Сергеева), епископа Калужского Питирима (Свиридова) и соборного духовенства, был отслужен молебен. Митрополит Николай огласил телеграмму, полученную митрополитом Московским и Коломенским Сергием от Блаженнейшего Христофора, Папы и Патриарха Александрийского, с поздравлениями по случаю «блестящих побед русских армий, ведущих к полному разгрому могущества сил ада» *10 .
Митрополит Николай (Ярушевич) в ноябре 1941 г. вернулся в Москву и в своих письмах к митрополиту Сергию сообщал об обстановке в храме и в покинутом Патриаршим Местоблюстителем доме в Бауманском пер. В письме от 28 февраля 1942 г. он писал: «Сегодня (суббота) и завтра (2-е воскресенье В[еликого] Поста) все наличные архиереи служат по своим храмам: <...> и я — в Елохове. Завтра в Елохове предполагаю совершить и пассию. В прошлое воскресение я, слава Богу, не простудился в Елохове. <...> Холод в храме был, как говорят теперь, «жуткий». Нашей столовой в патриархии является сейчас комната о. Иоанна, так как стол в столовой а[рхиепископом] Алексием [Палицыным] обращен в его рабочий или письменный стол. <...> В квартире холодно: в канцелярии 5° С, в комнате моей (за перегородкой) — столько же, а в столовой (т. е. в комнате а[рхиепископа] Алексия) — градусов 10. Дрова на исходе, но я уже принял меры к подысканию следующей партии дров» *11 .
31 октября 1942 г. митрополит Киевский и Галицкий Николай сообщил в Ульяновск важную новость: «Вчера, будучи приглашенным в Моссовет, я узнал, что согласно нашему ходатайству в Моссовете решено предоставить патриархии и вторую (ранее ей принадлежавшую) квартиру в доме № 6, т. е. предоставить нам весь дом целиком. В ближайшее время предполагается освободить для нас - площадь этой второй квартиры. Предстоит, конечно, ремонт, так как та квартира очень запущена» *12 .
В январе 1942 г. Богоявленский собор внес 300000 р. пожертвований на оборону отечества, а в феврале того же года — еще 215000 р. на подарки бойцам Красной Армии12. (12 Селиванова Т. А. Соборяне в дни Отечественной войны // Правда о религии в России. М., 1942. С. 175-177.) Всего же за период с июня 1941 по июль 1944 г. в Фонд обороны от Елоховского собора были перечислены от имени духовенства и верующих 835 900 р. и на подарки бойцам Красной Армии 535 100 р. *13 Кроме того, 70 000 р. было передано в Патриархию на издание в 1942 г. книги «Правда о религии в России».
О торжественной, взволнованной молитвенной атмосфере в Богоявленском соборе в первую военную зиму повествуют воспоминания его давнего прихожанина профессора Григория Петровича Георгиевского (1866-1948) — старого москвича, книговеда и историка Церкви, сотрудника Московской Патриархии. Не покидавший Москву в военное лихолетье, Г.П. Георгиевский часто посещал службы в своем приходском храме, тесно общался и с богомольцами, и с клириками, и с постоянно служившим в соборе заместителем Блаженнейшего митрополита Сергия по управлению Московской епархией митрополитом Николаем (Ярушевичем). «После литургии завтра <...> у меня пьет чай дорогой гость в лице Григория Петровича»,— сообщал 28 февраля владыка Николай в Ульяновск Блаженнейшему Сергию, хорошо знавшему Георгиевского еще по годам совместной с ним учебы в Санкт-Петербургской Духовной Академии *14 .
Г. П. Георгиевский с удовлетворением отмечал подъем религиозного чувства верующих, в годину тяжких бедствий испытывавших насущную необходимость частого посещения храма, особенно в дни Великого поста 1942 г.: «Все стремились исповедаться и причаститься. Желающих говеть было так много, что священники вынуждены были причащать и за преждеосвященными литургиями по средам и пятницам. В обычные же дни для причастия, особенно в некоторые субботы, причастников <...> собиралось так много, что служба начиналась в б часов 30 минут утра и оканчивалась в 4-5 часов дня» *15 .
В те дни за молитвой в соборе Богоявления к Григорию Петровичу приходили отрадные воспоминания о торжественных службах и служителях храма недавнего довоенного времени: «Собор во всем своем блеске. Блестят золотом и красками иконостасы и иконы, все кругом утопает в цветах, придающих особую пестроту однотонности металла и дерева. Все детали искусно сочетаются во взаимном дополнении одна с другой и обнаруживают волшебника-мастера, с необыкновенным старанием и умением создавшего оригинальный ансамбль для торжественной службы.
Стоя в соборе в эти великие минуты, невольно вспоминаешь о. Николая Колчицкого, соборного настоятеля, создателя и вдохновителя этой соборной красоты в великие церковные праздники. Все проходило слаженно, стройно, без единого диссонанса и в возгласах и поведении диакона, и в пении клира, хора и чтецов. Богомольцы, переполнявшие сейчас собор,— это все духовные дети о. Николая. Он умел и их привлечь к деятельному участию в подготовке праздничных торжеств. Общими усилиями создавалось то великолепие, в каком собор встречает и сегодня Пасху» *16 .
В 1942 г. Русская Православная Церковь праздновала самую раннюю Пасху. В условиях осадного положения Москвы проведение ночной службы с 4 на 5 апреля было немыслимым делом, но, к радости православных верующих, в 6 часов утра 4 апреля городское радио сообщило распоряжение коменданта города о свободном передвижении прихожан в свои храмы в Пасхальную ночь. В течение дня 4 апреля тысячи людей устремились в кафедральный собор для освящения куличей, пасох и яиц.
«На улице Баумана около Елоховского собора оживленный людской рокот и большой, вытянувшийся и опоясавший громадное церковное строение, хвост,— вспоминал очевидец.— Идут прикладываться к плащанице — она стоит посреди храма последние часы. В правом приделе, в мерцании свечей, в тусклом свете, что проникает через узкие стекла окон, уже приготовленных к ночному затемнению, происходит церемония освящения куличей, пасох и яиц.
У многих не хватило ни усилий, ни времени, чтобы приготовить все это освященное веками великолепие пасхального дня. Но пасхальный хлеб, благословленный священником, должен быть в доме верующих. И вот стоит женщина с караваем обыкновенного белого хлеба, купленного в магазине. Рядом с ней седовласый старец держит в салфетке, столь же белой, как и его борода, десяток сухарей. Тут освящают торт, давно заготовленный для этого случая. А вот в углу, в отдалении от всех, стоит маленькое, робкое семилетнее существо. В ее тонких ручонках, на обрывке вчерашней газеты — кусок серого пшеничного хлеба с воткнутой в него свечкой. Священник благословляет и этот смиренный пасхальный хлеб, хлеб войны» *17 .
К Пасхальной заутрене в храм пришло 6500 чел. и в основном женщины в возрасте 40 лет и старше: «Помещение собора было набито битком людьми, верующим трудно было руку поднять для моления. Стояли все стиснутые, так тесно. В церкви были мужчины, много молодежи. Даже военные были и тоже слушали речь протоиерея» *18,— информировал секретный сотрудник группы НКВД по работе в Москве свое руководство. Сонм священнослужителей возглавлял митрополит Крутицкий Николай (Ярушевич). К заутрене прибыли представители дружественной британской армии, которые находились в храме с возжженными свечами, как все богомольцы.
В ту пасхальную ночь в Елоховском соборе был и юный Николай Пестов, о чем так вспоминала его сестра Наталия Николаевна: «Коля пошел один к заутрене, я с папой собралась к обедне. Коля вернулся домой весь мокрый, потный, с чужой шалью на плечах. Он рассказал, что храм был настолько переполнен, что толпа качалась, как один человек, то вправо, то влево. По окончании службы, когда стали выходить, то и Колю вынесло на улицу, причем на плечах у него оказалась чья-то шаль» *19 .
В годы войны не прекращалось пополнение штата клириков Елоховского собора. 11 февраля 1943 г. митрополит Московский и Коломенский Сергий назначил протодиаконом соборного храма о. Петра Петровича Байкова (1892-1975), служившего с 1920 г. диаконом в ряде московских церквей. Прихожане собора в течение 30 лет видели за богослужениями этого почтенного протодиакона с пышной шапкой совершенно белых волос и с округлой седой бородой. Всем были хорошо знакомы и его спокойная, словно «задумчивая» походка, и благообразный облик, и ровный, бархатный тембр голоса. За Патриаршими службами он был, как правило, вторым служащим диаконом и, кроме ектений, читал Апостол, восхищая молящихся с ним ровностью мягкого звука и четкостью чтения. Отец Петр ревностно трудился в соборе до 1974 г., являясь сослужителем трех Святейших Патриархов: Сергия, Алексия и Пимена, множества архиереев и священников, призывая верующих к совместной молитве с амвона Патриаршего собора *20 .
Митрополит Николай (Ярушевич), являясь заместителем и полномочным представителем Местоблюстителя Патриаршего Престола митрополита Сергия в Москве, летом 1943 г. начал переговоры с властями о скором возвращении из эвакуации митрополита Сергия *21 . 31 августа 1943 г. православные верующие Москвы с почетом встретили на Казанском вокзале истосковавшегося вдали от своей паствы Первосвятителя. Присутствовавший при этой встрече епископ Молотовский Александр (Толстопятов) записал такие впечатления об этом дне: «С нескрываемой радостью Блаженнейший вошел в свои скромные покои в Бауманском переулке. Все было ему любо, все по душе: и привычная мебель, и угольник с иконостасом, и портреты святителей на стенах, и живые лица любезных ему москвичей. Все располагало его к спокойствию и уюту, к уединенной молитве, к размышлениям и трудам. Иноческие подвиги прочно сложили монашеский быт Первосвятителя Русской Православной Церкви, и его душа не искала и не хотела ничего большего, ничего лучшего. <...> Блаженнейший принципиально отрицал богатство и роскошь в личном имуществе, всю жизнь уклонялся от личной славы и не без труда уступил, когда перед ним развернулись перспективы ожидающих Русскую Церковь событий в ближайшие дни» *22 .
3 сентября 1943 г. впервые после возвращения из Ульяновска Местоблюститель Патриаршего Престола митрополит Сергий служил Божественную литургию в Елоховском соборе, и впервые же в тот день в храме пел новый правый хор под управлением замечательного регента Виктора Степановича Комарова (1893-1974). До тех пор в богослужениях участвовал хор слепых певцов, перешедший затем в храм Воскресения Христова в Сокольниках.
В. С. Комаров, считавший своими наставниками и учителями выдающихся регентов и духовных композиторов П.Г. Чеснокова, Н.М. Данилина, К.Н. Шведова, начиная с 1912 г. являлся руководителем правых хоров во многих московских храмах. Хоры под его управлением пели за церковными службами, которые возглавлялись Святейшим Патриархом Тихоном и архиепископом Иларионом (Троицким) и в которых участвовали великий архидиакон К. В. Розов, протодиаконы М.К. Холмогоров и В.Д. Прокимнов, достигая особой красоты богослужений в соответствии с требованиями церковного устава.
Виктор Степанович сам написал ряд церковно-музыкальных произведений. <.../>
Патриарх Сергий, будучи музыкально одаренным, любил и понимал церковное пение, часто сам находил духовную радость в исполнении на фисгармонии переложений духовной музыки и монастырских напевов. Большой наградой для В. С. Комарова были слова Святейшего, обычно избегавшего оценок в превосходных степенях: «Хор у него хороший». Виктор Степанович великолепно чувствовал и исполнял древние оригинальные напевы и с успехом интерпретировал сложные многоголосные сочинения крупнейших церковных композиторов.<.../>
8 сентября 1943 г. в новой резиденции Московской Патриархии (Чистый пер., д. 5) состоялся Собор епископов Русской Православной Церкви, созванный для избрания Патриарха Московского и всея Руси и образования при нем Священного Синода. Собор архиереев единодушно избрал Патриаршего Местоблюстителя, Блаженнейшего митрополита Московского и Коломенского Сергия Святейшим Патриархом. На 12 сентября в Богоявленском соборе было назначено церковное торжество интронизации, т. е. возведения на Патриарший престол вновь избранного Первосвятителя.
В этот знаменательный день Святейший Сергий был встречен у дверей храма всем составом Собора из 19 лиц высшей иерархии Русской Православной Церкви во главе с постоянными членами Священного Синода. Вместе с ними на торжественную встречу вышли виднейшие представители московского духовенства во главе с кафедральными протоиереем Николаем Колчицким. Святейший владыка Сергий приложился к кресту, поднесенному о. Николаем, и проследовал на кафедру, возведенную посередине собора.
Затем о. Николай Колчицкий огласил Деяние Собора епископов об избрании митрополита Сергия на престол Первосвятителей Московских с возведением в сан Святейшего Патриарха. Эта весть была встречена всеми собравшимися в храме с ликованием и провозглашением троекратного «Аксиос» (греч.— достоин).
Митрополит Киевский и Галицкий Николай (Ярушевич) поднес Святейшему белоснежный Патриарший куколь с вышитыми золотом херувимами. Этот знак Патриаршего достоинства Патриарх Сергий возложил на себя также под пение «Аксиос». Вслед за этим митрополит Ленинградский Алексий (Симанский) вручил Святейшему Сергию Патриарший жезл и произнес краткое приветственное слово, по окончании которого соборный протодиакон Г. Антоненко провозгласил многолетие «Святейшему Отцу нашему Патриарху Московскому и всея Руси Сергию».
Во время служения Божественной литургии, пред пением «Трисвятой» песни, были провозглашены многолетия Восточным Патриархам и Первосвятителю Московскому Сергию. На великом входе Святейший сам поминал поименно Святейших и Блаженнейших Патриархов: Константинопольского Вениамина, Александрийского Христофора, Ан-тиохийского Александра, Иерусалимского Тимофея и Сербского Гаврила *23 .
По окончании литургии Святейший Патриарх произнес слово, в котором он призвал благословение Божие на паству, указывал на ответственность его служения перед Церковью и просил верующих укрепить его силы своими молитвами: «Я обращаюсь с просьбой ко всем собравшимся архипастырям и верующему народу усилить молитвы за меня для того, чтобы молитвенным предстательством всего народа утвердилось дело церковного управления и чтобы я, опираясь на молитву всей Русской Церкви, твердо вел вверенную мне Богом паству к вечному спасению» *24 .
После произнесения этой речи Его Святейшество преподал свое первосвятительское благословение тысячам богомольцев, которые в тот день заполнили все пространство главного храма, трапезной и приделов и ожидали его выхода, стоя на паперти и вокруг здания храма.
В сентябре 1943 г., впервые после 1917 г., в Москву по приглашению Русской Православной Церкви прибыла официальная делегация инославной Англиканской Церкви во главе с архиепископом Йоркским С. Ф. Гарбеттом. 21 сентября, в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы, Святейший Патриарх Сергий совершил литургию в кафедральном соборе с участием митрополитов Алексия (Симанского) и Николая (Яру-шевича), архиепископов Сергия (Гришина) и Алексия (Сергеева). К началу богослужения в собор прибыл архиепископ Йоркский С.Ф. Гарбетт со своими спутниками — двумя капелланами Англиканской Церкви. Кафедральный протоиерей Николай Колчицкий провел их в алтарь, где они, будучи одетыми в богослужебные одеяния своей Церкви, оставались в левой части алтарного помещения. Здесь же находился посол Великобритании в Москве А. Керр со своими сотрудниками. Перед началом литургии Святейший Патриарх Сергий и архиепископ С.Ф. Гарбетт обменялись приветственными речами *25. 23 сентября все члены делегации вместе с дипломатами из посольства Великобритании и представителями Британской военной миссии в Москве присутствовали в Богоявленском соборе на торжественном молебне о даровании победы войскам союзников и Красной Армии. Сообщая об этом беспрецедентном событии председателю Совнаркома СССР И. В. Сталину секретной докладной запиской, председатель Совета по делам Русской Православной Церкви Г. Г. Карпов отметил, что на молебен в храм и около него собралось около 8000 чел. несмотря на проведение его в рабочий день *26 . <.../>
В канун праздника Святой Пасхи 1944 г. духовенство храмов Москвы с благословения Святейшего Патриарха призвало верующих к особым пожертвованиям на строительство самолетов для Красной Армии. Прихожанами Елоховского собора тогда было собрано и сдано в Фонд обороны страны 100 000 р. Пасхальное богослужение в ночь с 15 на 16 апреля 1944 г. в кафедральном соборе возглавил Святейший Патриарх Сергий которому сослужил епископ Архангельский Михаил (Постников) *27 .
В тот день во время совершения заутрени и Пасхальной литургии в алтаре присутствовали многочисленные гости — представители дипломатических миссий союзных с СССР стран, в том числе из посольства США — 14 чел. из посольства Великобритании — 4 чел., из Австралийской миссии — 2 чел. И уже 17 апреля настоятель собора кафедральный протоиерей Николай Колчицкий получил от советника Американского посольства контр-адмирала флота США С.Н. Ольсена благодарственное письмо такого содержания: «Разрешите мне поблагодарить Вас за Вашу чрезвычайную любезность по отношению ко мне и к моим офицерам, за данную нам возможность присутствовать в алтаре собора при богослужении в пасхальную ночь. Это богослужение произвело на меня неизгладимое впечатление и останется нам памятным надолго. Прошу Вас передать Его Святейшеству Патриарху Сергию поздравления с праздником Пасхи и пожелать ему здоровья и сил на многие годы» *28 .
Однако великому иерарху, Главе Русской Православной Церкви суждено было прожить уже совсем недолго: 15 мая 1944 г. в 6 часов 50 минут волею Божией Святейший Патриарх Сергий скончался *29 . В тот же день Высокопреосвященнейший митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий (Симанский), вступивший, согласно завещательному распоряжению почившего в Боге Святейшего владыки, в права Местоблюстителя Патриаршего Престола, вместе с митрополитом Киевским и Галицким Иоанном (Соколовым), архиепископом Саратовским и Сталинградским Григорием (Чуковым) и кафедральным протоиереем Николаем Колчицким прибыли в собор. Здесь в присутствии представителя Совнаркома СССР Г.Г. Карпова ими было определено место погребения Святейшего внутри храма, у его северной стены, в Никольском приделе *30 .
Были отданы необходимые распоряжения об устройстве могилы ко дню погребения, намеченному на 18 мая.
16 мая в 14 часов гроб с телом почившего Первоиерарха был перевезен, в сопровождении архиереев и священнослужителей во главе с митрополитом Алексием, из Патриаршей резиденции в Чистом пер. в Елоховский собор. У собора прибытия гроба ожидали тысячи прихожан вместе с митрополитом Иоанном, другими иерархами, а также клириками московских церквей. К гробу Первосвятителя потекли нескончаемые вереницы православных москвичей, желавших навеки проститься с незабвенным Патриархом. У гроба священники не прерывали чтения Евангелия, а заупокойные службы следовали одна за другой. В тот же день заключительная заупокойная вечерняя служба была совершена о. Николаем Колчицким при общенародном пении всех молящихся.
На следующий день, 17 мая, после Божественной литургии, совершенной архиепископом Григорием, была отслужена соборная панихида у гроба Святейшего, наполовину закрытого зеленой Патриаршей мантией. На гроб, утопавший в живых цветах, был возложен венок из белых живых роз. В ногах покойного на аналое была помещена икона преподобных Сергия и Германа Валаамских, а рядом — знаки Патриаршего достоинства: белоснежный куколь, предносный крест и посох.
В 17 часов началась общемосковская панихида, которую совершил управляющий Московской епархией митрополит Крутицкий Николай (Ярушевич). По ее окончании состоялся парастас, который служили восемь архиереев во главе с Патриаршим Местоблюстителем митрополитом Алексием, настоятели и священники всех московских и многих провинциальных церквей. Во время парастаса митрополит Николай произнес надгробное слово, взволнованно выслушанное всеми богомольцами и неоднократно прерывавшееся их скорбными рыданиями. До глубокой ночи в тот день прощались верующие москвичи со своим Перво-святителем; многие остались в соборе на ночь, и в 2 часа утра панихида была отслужена вновь.
В день отпевания, 18 мая, Высокопреосвященнейшим Алексием была совершена поздняя литургия. К его началу в алтаре собрался многочисленный сонм духовенства московских храмов, облаченного в белые ризы. На правой солее вместе с Г. Г. Карповым находились дипломаты: члены французской военной миссии во главе с генералом Петти и греческий посол А. Политис с сотрудниками, а также иностранные журналисты.
Отпевание продолжалось более трех часов. В середине церемонии о. Николай Колчицкий произнес речь, в которой прозвучали и такие слова, нашедшие отзвук горячей любви и благоговения к памяти покойного в сердцах прихожан: «Отец, друг и учитель! Только в том мы находим утешение и поддержку, что Твоя могилка в соборе среди нас. Здесь Ты всегда служил, здесь Ты и упокоишься своим телом навеки» *31 . По окончании речи весь народ, переполнявший собор, вместе с духовенством исполнил единым сердцем и едиными устами «Со Святыми упокой». Это был волнующий момент, который навсегда остался в памяти участников погребения как яркое проявление всенародной любви к почившему Святейшему Патриарху Сергию.
В 16 часов, после последнего слезного целования — прощания с усопшим при пении всем народом пасхального тропаря «Христос Воскресе», священнослужители подняли на свои рамена гроб и величественным крестным ходом понесли его вокруг храма. Французский генерал Петти и греческий посол А. Политис пожелали лично участвовать в несении гроба вместе с иереями *32 .
Впереди несли Патриарший крест, хоругви и запрестольные иконы. Далее, по двое в ряд, шли диаконы, священники, иеромонахи, митрофорные протоиереи и архимандриты, а за ними — архиереи. Шествие замыкал Патриарший Местоблюститель митрополит Алексий, вслед за которым несли Патриарший куколь и икону преподобных Сергия и Германа Валаамских, а затем уже гроб с телом Патриарха, осеняемый рипидами. На улицу доносился погребальный звон колоколов.
Через западные двери крестный ход вернулся в собор. Гроб пронесли к могиле, и после литии и посыпания тела перстью земной архиереи закрыли гроб крышкой. Он был опущен в могилу под пение пасхального канона «Аще и во гроб снисшел еси, бессмертне». По окончании печальной церемонии могилу накрыли временной плитой, вокруг которой затеплились бесчисленные свечи. На другой день с утра могила Святейшего Патриарха Сергия украсилась целой клумбой из живых цветов *33 .
21 мая 1944 г. Патриарший Местоблюститель митрополит Алексий впервые литургисал в этом звании в Елоховском соборе. А через полгода, 23 ноября, им был созван в Москве Собор епископов, на котором было постановлено провести Поместный Собор Русской Православной Церкви для избрания Патриарха Московского и всея Руси на вдовствующую после смерти Патриарха Сергия кафедру и принятия «Положения об управлении Русской Православной Церкви».
В конце января 1945 г. в Москву стали съезжаться участники и гости Поместного Собора, оказавшегося небывало представительным. В работе Собора приняли участие Патриарший Местоблюститель митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий (Симанский), митрополит Крутицкий Николай (Ярушевич), митрополит Киевский и Галицкий Иоанн (Соколов), митрополит Североамериканский и Алеутский Вениамин (Федченков), 41 архиерей и 126 представителей приходских советов и мирян Русской Православной Церкви. В качестве почетных гостей на Соборе присутствовали: Патриарх Александрийский и всей Африки Христофор II, Патриарх Антиохии и всего Востока Александр III, Католикос-Патриарх всей Грузии Каллистрат, представитель Константинопольского Патриарха митрополит Фиатирский Германос, представитель Иерусалимского Патриарха архиепископ Севастийский Афинагор, представитель Синода Сербской Православной Церкви митрополит Скоплянский Иосиф, представитель Румынской Православной Церкви епископ Арджешский Иосиф и сопровождавшие их митрополиты, епископы, другие лица *34.
На своем втором заседании, состоявшемся 2 февраля 1945 г., Поместный Собор приступил к избранию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Епископы, начиная с младшего по хиротонии, поочередно от своего имени, а также от имени духовенства и мирян своей епархии называли имя кандидата на Патриаршую кафедру. Поместный Собор единогласно и единодушно избрал Патриархом Московским и всея Руси Патриаршего Местоблюстителя митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия. Торжественные события, связанные с избранием Первосвятителя Московского Патриаршего Престола, завершились интронизацией в Елоховском Богоявленском соборе.
«К субботе 3 февраля собор преобразился,— вспоминал спустя 25 лет очевидец и участник церемонии интронизации преосвященный епископ Волоколамский Питирим, в том далеком 1945 г. юный иподиакон Константин Нечаев, а позже митрополит Волоколамский и Юрьевский, викарий Московской епархии.— Тогда во всем ещё были видны следы военного времени и недавнего военного положения Москвы. Стены были темны. На окнах еще не сняты местами светомаскировочные полотнища, а стекла верхних ярусов перекрещены защитными полосками бумаги. Но теперь собор расцвел. Расцвел самым буквальным образом гирляндами живой зелени и ослепительно белой сиренью. Старая позолота, блеск начищенных подсвечников и разноцветные лампадки, пурпур и золото пасхальных облачений в ярком свете прожекторов кинохроники превратили собор в невиданные райские сады» *35 .
Для проведения торжества интронизации Управлением делами Московской Патриархии при содействии Совета по делам Русской Православной Церкви при Совнаркоме СССР были получены от Народного комиссариата торговли сверхдефицитные в военной Москве и строго нормируемые в продаже материалы: 35 м ковровой дорожки для покрытия пола в соборе, 25 м красной хлопчатобумажной материи для завесы царских врат главного алтаря, 65 м шелка для шитья покрывала на престол, платов для причащения и других нужд. Кроме того, был выделен лимит на 65 кг пшеничной муки для выпечки просфор *36.
3 февраля на всенощной службе в соборном храме Патриарший Местоблюститель не присутствовал, но зато все прибывшие в Москву иерархи Поместных Православных Церквей были удостоены торжественной встречи под пение Патриаршего хора и звон колоколов внутри собора, в которые звонила алтарница мать Евдокия. Всенощное богослужение святителям Московским возглавлял Патриарх Александрийский Христофор, а помазывал у праздничной иконы Патриарх Антиохийский Александр. Служба совершалась на греческом, церковнославянском и арабском языках.
После отпуста из царских врат вышел Католикос-Патриарх Каллистрат и обратился к народу со словом. «Его маленькая согбенная фигурка в черном куколе и белизна его бороды в громаде полутемного храма, тихая, ласковая, простая речь, отеческий тон его просьбы молиться за новоизбранного Патриарха были каплей целительного елея» — так вспоминал о впечатлении от прочувственной речи Патриарха Грузии преосвященный Питирим *37 .
С раннего утра 4 февраля, несмотря на лютый, обжигающий мороз, Богоявленский кафедральный собор был переполнен. Пускали на службу по пригласительным билетам, которых для духовенства и верующих москвичей было роздано 2000 шт. Еще около 800 приглашений было разослано Советом по делам Русской Православной Церкви, в том числе членам дипломатического корпуса в Москве и иностранным журналистам *38 . Вокруг храма стояли толпы народа, как на Пасху.
Иерархов Поместных Церквей снова встречали торжественно, под пение хора и трезвон колоколов Елоховской церкви (с этого дня был возобновлен звон по всей Москве). Архиереи Русской Православной Церкви появились из алтаря и, пройдя к западным дверям, образовали живой коридор от входа в храм до устроенной у главного алтаря кафедры, на которой уже восседали в облачениях на приготовленных для них местах гости — Главы и представители Церквей православного Востока и европейских стран.
На торжественную встречу Патриаршего Местоблюстителя Алексия, вступившего в свой кафедральный храм в последний раз в белом митрополичьем клобуке, вышел кафедральный протоиерей Николай Колчицкий, произнесший теплое приветственное слово. Затем, по русскому обычаю, от имени верующих Москвы профессор А.И. Георгиевский и артист Малого театра С.И. Филиппов поднесли Святейшему Патриарху хлеб-соль.
Новонареченный Патриарх, стоя на кафедре, выслушал грамоту Поместного Собора о своем избрании. Под пение «Аксиос» митрополит Киевский и Галицкий Иоанн поднес Святейшему Алексию знак Патриаршего сана — белый куколь с вышитыми на воскрилиях святителями Московскими. Водрузив куколь на свою главу, Патриарх взял в руку поднесенный митрополитом Крутицким Николаем вызолоченный и украшенный бриллиантами Патриарший жезл-посох, сделанный по образцу древнего посоха митрополита Петра. Его прислала в дар Святейшему ленинградская паства.
Затем у царских врат Первосвятитель коленопреклоненно произнес первую Патриаршую молитву о своем служении и о спасении паствы. После приветствия от гостей, возгласивших ему вместе с народом и духовенством многолетие, на кафедре произошло облачение Его Святейшества по Патриаршему чину, а затем служение литургии. По окончании чтения запричастного стиха настоятель кафедрального собора протоиерей Николай Колчицкий огласил первое послание новоизбранного Патриарха к архипастырям и верным чадам Русской Церкви.
По завершении литургии был совершен торжественный молебен, перед которым Святейший Патриарх Алексий приветствовал присутствовавших святителей, пастырей и всю паству в великий день своего вступления на престол Московских Патриархов: «И вот ныне промышлением Божиим я призываюсь приобщиться подвигу первосвятителей Московских. <...> Исповедую свою немощь, свое недостоинство, но вместе с тем свидетельствую и свою веру в действенность благодати Божией, врачующей немощное и восполняющей оскудевающее. Исповедую и надежду свою на помощь молитв и благословений великих первосвятителей Церкви Российской древних и позднейших, коих недостойным преемником судил мне быть Господь» *39 .
После молебна Патриарха Алексия приветствовали представители от автокефальных Церквей, представитель правительства СССР Г. Г. Карпов, а также архиепископ Григорий и митрополит Николай *40 .
В заключение описания волнующей церемонии интронизации приведем еще одно воспоминание епископа Питирима (Нечаева): «В тот день Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию многолетие возглашалось дважды. С амвона, после того, как он, прочитав молитву коленопреклоненную, дал целование Патриархам, и после молебна. <...> Второе многолетствование произносили по диптиху всем Патриархам, начиная с Константинопольского, все московские протодиаконы, цвет протодиаконства того времени <...>. Нашему Патриарху возглашал многолетие престарелый и немощный старейший московский протодиакон Михаил Кузьмин Холмогоров. Это был один из замечательнейших русских протодиаконов, редкого музыкального дарования, неповторимой красоты голоса и беспорочной жизни. <...> Казалось, что-то мягкое, звучное, плотное, обильное непреодолимо заливает собор доверху. От купола до дальнего угла ризницы. Это был осязаемый звук. Он лился, переполнял собой все, звучал в каждой частице пространства. <...> Это был «Михал Кузьмич». Это была его лебединая песнь, последний и полный дар его старческих сил новому Патриарху Московскому и всея Руси. Минутой позже он опустился в изнеможении на скамью в уголке ризницы» *41 .
Вся церемония интронизации была заснята операторами Центральной студии документальных фильмов на кинопленку и вошла как эпизод в фильм-хронику «Поместный Собор Русской Православной Церкви 1945 г.» (режиссер — М. Славинская) *42 . <.../>
«Чудное было торжество,— вспоминал в одном из своих писем И. С. Ефимов.— Прекрасное старое пение, толпа митр, сверкающих алмазами, как изморозь, прекрасные лица и прекрасные восточные лица наших антиохийских и александрийских гостей, которые мы там хорошо нарисовали. И удивительное блаженство было, которое никогда себе нельзя позволить — под райскую музыку служения открыто рисовать темы Тинторетто» *43 .
Вечером 6 февраля в Большом зале Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского был устроен концерт духовной музыки для членов и гостей Поместного Собора. В программе концерта выступил Патриарший хор Богоявленского Елоховского собора под управлением регента В. С. Комарова. Состав хора был усилен приглашенными певцами из Русского народного хора им. М. Пятницкого, а солисткой выступала народная артистка РСФСР Н. Д. Шпиллер. В концерте хором были исполнены «Гимн Советского Союза» и произведения церковных композиторов А. Д. Кастальского, Н. М. Данилина, П. Г. Чеснокова и Д. С. Бортнянского *44 .
25 февраля 1945 г. Святейшим Патриархом было утверждено «Положение о Богоявленском соборе в Москве», которым было определено:
1. Богоявленский собор в Москве именовать Патриаршим Богоявленским собором.
2. Установить, что настоятель Патриаршего Богоявленского собора за особые заслуги пред Святой Церковью может быть возводим особым указом Патриарха в звание протопресвитера.
3. В Патриаршем Богоявленском соборе устанавливается должность сакеллария (ключаря).
В тот же день настоятель собора протоиерей Николай Колчицкий был возведен в сан протопресвитера *45 .
40-е гг. XX в. ознаменовались и другими важнейшими в истории Церкви событиями, связанными с возвращением древних святынь Православия для поклонения верующему народу. Еще в 1944 г. появились сведения о передаче в Елоховский храм списка чудотворной Казанской иконы Божией Матери *46.
Знаменитая святыня москвичей — чудотворный список XVII в. с образа Божией Матери «Казанская» — с 1636 г. находилась в Казанском соборе на Красной площади, из которого московский Казанский образ в 1918 г. был похищен и доныне его местонахождение неизвестно *47 . Почитаемый список, находящийся в Богоявленском Елоховском храме, происходил, по всей видимости, также из Казанского собора.
Сохранились основанные на устном предании и не подтвержденные документально сведения о том, что чудотворный список Казанской иконы Божией Матери еще до 1930 г. был перенесен из Казанского собора в Богоявленский Дорогомиловский собор, а оттуда в 1930 г. был передан в церковь Богоявления в Елохове *48 . По другой версии, после закрытия Казанского собора 13 мая 1930 г. его община перешла в старинный храм свт. Николая в Хлынове, на Б. Никитской ул. Туда же верующими были перенесены несколько икон, в том числе чудотворный образ *49 . Но вскоре и Николо-Хлыновский храм постигла та же участь, что и Казанский собор: постановлением Президиума Мособлисполкома от 16 февраля 1932 г. он был закрыт, а затем разорен и снесен *50 . Образ Казанской Богоматери был отдан в Богоявленский Дорогомиловский кафедральный собор *51 . Но и этот величественный храм был закрыт постановлением Президиума Мособлисполкома от 2 июля 1938 г. и через 3 месяца разрушен *52 . Достоверных же сведений о местонахождении этой иконы в конце 30-х — начале 40-х гг. XX в. не обнаружено.
Первое официальное упоминание о нахождении в Елоховском храме чтимого списка Казанской иконы Божией Матери относится к 1944 г., когда было отмечено ее пребывание на «лоне местного образа Богоматери» в иконостасе главного алтаря. Но затем, ко дню открытия Поместного Собора 1945 г., по всей видимости, икона была передана на понов-ление и реставрацию ее серебряного оклада, украшенного камнями, жемчугом и стеклярусом. Храмовая летопись содержит упоминание о праздновании в 1955 г. десятилетия возвращения верующим Казанского чудотворного образа. Отмечено также, что первым иностранным богомольцем, обратившимся с молитвой в Патриаршем соборе к Казанской иконе Божией Матери, был Румынский Патриарх Никодим, посетивший храм 28 октября 1946 г., но отнюдь не Главы автокефальных Православных Церквей, молившиеся в Елоховской церкви в начале февраля 1945 г. *53 . Следовательно, можно предположить, что помещение святыни после реставрации на ее постоянное место в местном ряду главного иконостаса собора, скорее, относится ко второй половине 1945 года…
Публикуется по изданию «Собор Богоявления в Елохове: история храма и прихода», ЦНЦ «Православная энциклопедия», Москва, 2004 г.
Примечания
1. От внешнего к внутреннему: Жизнеописание Н. Е. Пестова / Сост. епископ Сергий (Соколов). Новосибирск, 1997. С. 111.
2. Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве. М., 2000. С. 119.
3. Обращение митрополита Московского и Коломенского, главы Православной Церкви в России Сергия к «Пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви» от 22 июня 1941 г. // Правда о религии в России. М., 1942. С. 15-17.
4. Речь митрополита Сергия на молебне о победе русского воинства 26 июня 1941 г. //Тамже. С. 83-86.
5. Этот факт приводил в своем воззвании к верующим епископ Уманский Иосиф в апреле 1944 г. (см.: Отечественные архивы. 1995. № 3. С. 51).
6. Слово митрополита Алексия, произнесенное за Божественной литургией в Богоявленском соборе 10 августа 1941 г. // Правда о религии в России. М., 1942. С. 104.
7. Евлогий (Смирнов), архиеп. Это было чудо Божие. М., 2000. С. 131.
8. Лубянка в дни битвы за Москву. М., 2002. С. 13-14.
9. Указ Патриаршего Местоблюстителя Сергия, митрополита Московского и Коломенского, от 15 декабря 1941 г. (Архив ЦНЦ «Православная энциклопедия». Ф. 3. Оп. 2. Д. 16. Л. 4); Казем-Бек А. А. Жизнеописание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия I // Богословские труды: Юбил. сб. к 120-летию со дня рождения Святейшего Патриарха Алексия. М., 1998. С. 117.
10. Восточные Патриархи и Московская Патриархия едины в борьбе с фашистскими угнетателями // Правда о религии в России. М., 1942. С. 269.
11. Письмо митрополита Николая (Ярушевича) митрополиту Сергию (Страгородскому) от 28 февраля 1942 г. / Публ. М. И. Одинцова // Отечественные архивы. 1995. № 2. С. 49.
12. Письмо митрополита Николая (Ярушевича) митрополиту Сергию (Страгородскому) от 31 октября 1942 г. // Отечественные архивы. 1995. № 2. С. 59-60.
13. ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 17. Л. 55.
14. Письмо митрополита Николая (Ярушевича) Блаженнейшему митрополиту Сергию от 28 февраля 1942 г./ Публ. М. И. Одинцова // Отечественные архивы. 1995. № 2. С. 49.
15. Георгиевский Г. П. Пасха 1942 года, Москва // Правда о религии в России. М., 1942. С. 215.
16. Там же. С. 217-218.
18. Моршанский Н. В этот день // Правда о религии в России. М., 1942. С. 226.
19. Соколова Н. Н. Под кровом Всевышнего. С. 49.
20. Акимов А., прот. Поздравление юбиляру-протодиакону // ЖМП. 1970. № 4. С. 27-28.
21. Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве. М., 2000. С. 202-203.
22. Александр (Толстопятое), еп. Молотовский. Годовщина знаменательных для Русской Церкви событий (4-8-12 сентября 1943 г.) // ЖМП. 1944. № 9. С. 9-10.
23 Церковное торжество в Москве 12 сентября 1943 г. // ЖМП. 1943. № 1. С. 21.
24. Речь Святейшего Патриарха Сергия в кафедральном Богоявленском соборе г. Москвы, в день интронизации, 12 сентября 1943 г. // ЖМП. 1943. № 2. С. 8.
25. Пребывание делегации Англиканской Церкви в Москве // Там же. С. 18-23.
26. Докладная записка Г. Г. Карпова И. В. Сталину от 30 сентября 1943 г. / Публ. М. И. Одинцова // Исторический архив. 1994. № 3. С. 142.
27. Николай (Ярушевич), митр. Пасха 1944 г. в Москве // Там же. 1944. № 5. С. 11.
28. Докладная записка Г. Г. Карпова И. В. Сталину от 19 апреля 1944 г. / Публ. М. И. Одинцова // Исторический архив. 1994. № 3. С. 146.
29. Извещение Священного Синода Русской Православной Церкви от 15 мая 1944 г. //Известия. 1944, № 116, 16 мая. С. 4.
30. Дневники Святейшего Патриарха Алексия (Симанского): В 4 т. Дневниковая запись от 15 мая 1944 г. [Машинопись]. (Архив ЦНЦ «Православная энциклопедия». Ф. 2. Т. 1. (1943-1950). С. 71-72.
31. Надгробное слово, произнесенное протоиереем Н. Ф. Колчицким во время отпевания Патриарха Сергия 18 мая 1944 г. // Патриарх Сергий и его духовное наследство. М., 1948. С. 175.
32. Письмо Г. Г. Карпова в Совнарком СССР от 19 мая 1944 г. / Публ. М. И. Одинцова // Исторический архив. 1999. № 6. С. 185.
33. Описание церемонии прощания с почившим Святейшим Патриархом Сергием и его погребение выполнено по публикации: Кончина и погребение Святейшего Патриарха Сергия // ЖМП. 1944. № 6. С. 5-9.
34. Цыпин р., прот. История Русской Православной Церкви. 1917-1990. М., 1994. С. 135-136. ,
35. Питирим, еп. Волоколамский. Этот день принадлежит Церкви // ЖМП. 1970. № 2. С. 26.
36. Справка об организационных мероприятиях в Москве, подписанная Г. Г. Карповым 23 декабря 1944 г. (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 32. Л. 63). Содействие властей проявилось и в направлении 3 и 4 февраля 1945 г. нарядов милиции для поддержания порядка у собора, и в выделении санитарной кареты с врачом для дежурства вблизи собора, и в организации киносъемок торжества интронизации. См.: Справка о подготовке Поместного Собора, подписанная Г. Г. Карповым (без даты). (Там же. Л. 83-87).
37. Питирим, еп. Волоколамский. Этот день принадлежит Церкви. С. 27.
38. Справка о подготовке Поместного Собора, подписанная Г. Г. Карповым (без даты). (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 32. Л. 86-88). Подготовка и издание пригласительных билетов были возложены на директрра Государственного издательства художественной литературы (Гослитиздат) П. И. Чагина.
39. Исторические дни: Интронизация Патриарха Московского и всея Руси Алексия — 4 февраля 1945 г. // ЖМП. 1945. № 2. С. 64.
40. Там же. С. 58-73.
41. Питирим, еп. Волоколамский. Этот день принадлежит Церкви. С. 29.
42. В 2001 г. Издательским Советом Русской Православной Церкви была выпущена видеокопия этого фильма.
43. Ковалик О. Сорок ушедших ликов // Общая газета. 1995. К2 12(88), 23-29 марта.
44. Программа концерта б февраля 1945 г. в Большом зале консерватории (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 32. Л. 89, 113).
45. Положение о Богоявленском соборе в Москве // ЖМП. 1945. № 3. С. 10.
46. Богословский Т. М. Московские святыни: Казанская икона Божией Матери // Там же. 1944. № 10. С. 31-32.
47. Чугреева Н. Н. Державная заступница. Чудотворные иконы Богородицы Казанской в Смутное время: Ярославская и Московская // Светильник. М., 2003. № 1 (2). С. 3-36.
48. Акимов А., прот. Московский Богоявленский Патриарший собор: Очерк. 1971. [Машинопись]. (Архив ЦНЦ «Православная энциклопедия». Ф. 2. С. 26-30); Богоявленский кафедральный собор / Сост. Т. П. Пальгунова. М., 2001. С. 14.
49. Козлов В. Возрождение святыни: Казанский собор Москвы и XX в. // ЖМП. 1993. №12. С. 4-5.
50. Протокол № 3 заседания Комиссий по делам культов при ЦИК СССР от 26 мая 1932 г. (ГАРФ. Ф. 5263. Оп. 1. Д. 15. С. 20-32
51. Акимов А., прот. Московский Богоявленский Патриарший собор. С. 37.
52. Крылова Т. О. История Дорогомиловской ямской слободы и церкви Богоявления Господня. М., 1997. С. 44, 141.
53. Несмелое П. Богоявленский Патриарший собор, что в Елохове: Из церковных летописей // ЖМП. 1955. № 2. С. 63-64.
Приложение
В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ ГЛАВА ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В РОССИИ ПАТРИАРШИЙ МЕСТОБЛЮСТИТЕЛЬ БЛАЖЕННЕЙШИЙ СЕРГИЙ, МИТРОПОЛИТ МОСКОВСКИЙ И КОЛОМЕНСКИЙ, ОБРАТИЛСЯ К ПАСТЫРЯМ И ВЕРУЮЩИМ СО СВОИМ ПОСЛАНИЕМ, РАЗОСЛАННЫМ В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ПО ВСЕМ ПРИХОДАМ. В НЕМ ОН БЛАГОСЛОВЛЯЕТ ВСЕХ ПРАВОСЛАВНЫХ НА ЗАЩИТУ СВЯЩЕННЫХ ГРАНИЦ НАШЕЙ РОДИНЫ.
ПАСТЫРЯМ И ПАСОМЫМ ХРИСТОВОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
В последние годы мы, жители России, утешали себя надеждой, что военный пожар, охвативший едва не весь мир, не коснется нашей страны, но фашизм, признающий законом только голую силу и привыкший глумиться над высокими требованиями чести и морали, оказался и на этот раз верным себе. Фашиствующие разбойники напали на нашу родину. Попирая всякие договоры и обещания, они внезапно обрушились на нас, и вот кровь мирных граждан уже орошает родную землю. Повторяются времена Батыя, немецких рыцарей, Карла шведского, Наполеона. Жалкие потомки врагов православного христианства хотят еще раз попытаться поставить народ наш на колени пред неправдой, голым насилием принудить его пожертвовать благом и целостью родины, кровными заветами любви к своему отечеству.
Но не первый раз приходится русскому народу выдерживать такие испытания. С Божиею помощью, и на сей раз он развеет в прах фашистскую вражескую силу» Наши предки не падали духом и при худшем положении потому, что помнили не о личных опасностях и выгодах, а о священном своем долге перед родиной и верой, и выходили победителями. Не посрамим же их славного имени и мы — православные, родные им и по плоти и по вере. Отечество защищается оружием и общим народным подвигом, общей готовностью послужить отечеству в тяжкий час испытания всем, чем каждый может. Тут есть дело рабочим, крестьянам, ученым, женщинам и мужчинам, юношам и старикам. Всякий может и должен внести в общий подвиг свою долю труда, заботы и искусства.
Вспомним святых вождей русского народа, например Александра Невского, Димитрия Донского, полагавших свои души за народ и родину. Да и не только вожди это делали. Вспомним неисчислимые тысячи простых православных воинов, безвестные имена которых русский народ увековечил в своей славной легенде о богатырях Илье Муромце, Добрыне Никитиче и Алеше Поповиче, разбивших наголову Соловьи Разбойника.
Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе с ним она и испытания несла и утешалась его успехами. Не оставит она народа своего и теперь. Благословляет она небесным благословением и предстоящий всенародный подвиг.
Если кому, то именно нам нужно помнить заповедь Христову: «Больши сея любве никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя». Душу свою полагает не только тот, кто будет убит на поле сражения за свой народ и его благо, но и всякий, кто жертвует собой, своим здоровьем или выгодой ради родины. Нам, пастырям Церкви, в такое время, когда отечество призывает всех на подвиг, недостойно будет лишь молчаливо посматривать на то, что кругом делается, малодушного не ободрить, огорченного не утешить, колеблющемуся не напомнить о долге и о воле Божией. А если, сверх того, молчаливость пастыря, его некасательство к переживаемому паствой объяснится еще и лукавыми соображениями насчет возможных выгод на той стороне границы, то это будет прямая измена родине и своему пастырскому долгу, поскольку Церкви нужен пастырь, несущий свою службу истинно «ради Иисуса, а не ради хлеба куса», как выражался святитель Димитрий Ростовский. Положим же души своя вместе с нашей паствой. Путем самоотвержения шли неисчислимые тысячи наших православных воинов, полагавших жизнь свою за родину и веру во все времена нашествий врагов на нашу родину. Они умирали, не думая о славе, они думали только о том, что родине нужна жертва с их стороны, и смиренно жертвовали всем и самой жизнью своей.
Церковь Христова благословляет всех православных на защиту священных границ нашей родины.
Господь нам дарует победу.
ПАТРИАРШИЙ МЕСТОБЛЮСТИТЕЛЬ СМИРЕННЫЙ СЕРГИЙ, МИТРОПОЛИТ МОСКОВСКИЙ И КОЛОМЕНСКИЙ
МОСКВА. 22 ИЮНЯ 1941 ГОДА
В ОКТЯБРЕ 1941 ГОДА, КОГДА НЕМЦЫ ПРЕДПРИНЯЛИ НАСТУПЛЕНИЕ НА МОСКВУ, КОГДА ЕЙ УГРОЖАЛА НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ, И НАСЕЛЕНИЕ ПЕРЕЖИВАЛО ТРЕВОЖНЫЕ МИНУТЫ, МИТРОПОЛИТ СЕРГИЙ ВЫПУСТИЛ ПОСЛАНИЕ К МОСКОВСКОЙ ПАСТВЕ. ЭТО ПОСЛАНИЕ ТАКЖЕ БЫЛО РАСПРОСТРАНЕНО ПО ПРИХОДАМ И ОГЛАШЕНО В ХРАМАХ
БОЖИЕЮ МИЛОСТИЮ, ПАТРИАРШИЙ МЕСТОБЛЮСТИТЕЛЬ, СМИРЕННЫЙ СЕРГИЙ, МИТРОПОЛИТ МОСКОВСКИЙ И КОЛОМЕНСКИЙ ПРАВОСЛАВНОЙ И БОГОЛЮБИВОЙ ПАСТВЕ МОСКОВСКОЙ ЖЕЛАЕТ МИРА И В ВЕРЕ ПРЕУСПЕЯНИЯ
Вторгшийся в наши пределы коварный и жестокий враг, повидимому, напрягает все свои силы. Огнем и мечом проходит он нашу землю, грабя и разрушая наши села, наши города.
Но не в первый раз русский народ переживает нашествие иноплеменных, не в первый раз ему принимать и огненное крещение для спасения родной земли.
Силен враг, но „велик Бог земли русской", как воскликнул Мамай на Куликовом поле, разгромленный русским воинством. Господь даст, придется повторить
этот возглас и теперешнему нашему врагу. Над нами покров Пресвятой Девы Богородицы,